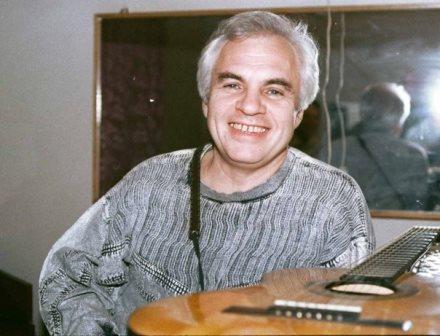В России нужно обсуждать песни. Они важнее статей, книг и кино. Всё это проваливается куда-то в нижние этажи памяти, всплывая отдельными строками или кадрами, а песня живёт в душе, навек с нею соединившись.
Сегодня, пережив колоссальную катастрофу, мы не можем не вглядываться в явление, которое называется авторской песней. Эта песня стала галактикой, наполненной сотнями звёзд. Она формировала сознание и потому ответственна за очень и очень многое.
С определением "бард" все запутались. А между тем, оно лежит на поверхности. Бард – это поэт с гитарой, чья правда изливается в мир и находит в нём мировоззренческий отклик. Это тот, кто внушает.
Бард – это гордо звучащее "я", имеющее право на утверждение истины. И потому песня барда – это всегда эмоциональный гипноз. Всё остальное, как бы ни бередило душу, это шансон. Это слюни и сопли поэзии, где звуки гитары предназначены для того, чтобы создать настроение. Весёлое или сугубо меланхолическое.
Шансонье купается в благодушии. Он хочет понравиться всем, и это его принципиально отличает от барда. Бард чихать хотел на всеобщее, потому что в этом "всеобщем" есть что-то глубоко ему ненавистное. Он это атакует и стремится избыть. Он смеётся над этим, бросает ему обвинения и утверждает иное.
Бард прекрасно осознаёт, что множит не только поклонников, но и недругов. Он знает: кому-то его творчество будет весьма не по вкусу. Кто-то сквозь зубы всегда назовёт его сукой.
Авторская песня мощно стартовала в послевоенное время. Она расцвела в шестидесятые, которые без песни вообще представить нельзя. В эту уникальную пору поэты с гитарами звучали согласно. Они выглядели как нечто единое.
Но вскоре авторская песня стала раздваиваться. А вслед за ней стала раздваиваться её великая аудитория, определяя свои предпочтения и идя за теми, кто ближе. Барды не выясняли между собой отношения, но уже становились антагонистами. Их песни начинали сражаться. И в какой-то момент побеждать стало нечто тёмное, поднимающееся из глубины и разбухающее до огромных масштабов.
В семидесятые годы от бардовских шлягеров повеяло чем-то сторонним, а подчас и откровенно похабным. Что-то чуждое проявилось в творчестве поэтов с гитарами – мелочное, самодовольное и бесконечно эгоистичное. Это уловил Анчаров, открывший жанр авторской песни, и его одиночество весьма не случайно. Это уловил Высоцкий, которого стало раздражать слово "бард". Не желал он быть в этом ряду. Ему была явно неприятна лукавая бархатная интонация, охмуряющая слушателя, его задевал ядовитый смешок, сбивающий "пафос" и принижающий всё героическое. Он явным образом чувствовал в этом какую-то фундаментальную фальшь и измену.
Анчаров и Высоцкий не могли даже предположить, во что это выльется. Но мы-то увидели. Мы увидели вселенский позор авторской песни, которая, атакуя советское под флагами человечности, не отозвалась на трагедию девяностых и, обласканная властями, захваленная журналистами, выродилась у всех на глазах. Мы увидели, как барды предали свой гуманистический идеал и сели по ресторанам, "тиская песню, как шлюху в порту".
Так что же произошло? Что наполнило космос авторской песни чёрными дырами бравирующей пустоты?
Мы обязаны разобраться. Ради тех, кого унесла из жизни волна инферно, и ради своих детей. Иначе всё повторится – полыхнувший "неизвестно откуда" огонь отрицания уничтожит здесь уже всё.
Давайте вглядимся в почтенных бардов, за которыми влачится толпа подражателей. Эти люди не бесы, не враги рода людского. Они вежливы, милы, эрудированны. Они щедро одарены, а иногда – гениальны. Просто их мировоззрение творило поэзию, которая накачивала общество гнилью.

Романс на обочине
Его творчество родилось как паскудство.
Поначалу это было даже талантливо. В песне "О графе Толстом, мужике непростом" есть весёлые строки.
"Жил-был великий писатель –
Лев Николаич Толстой,
Мяса и рыбы не кушал,
Ходил по именью босой...
Но Софья Андреевна Толстая
Совсем не такая была,
И, рукопись мужа листая,
Говядины много жрала".
Небездарен и "Батальонный разведчик" – слёзный романс, сразу подхваченный попрошайками и ставший частью уличных звуков.
"Болит мой осколок железа
И режет пузырь мочевой,
Полез под кровать за протезом,
А там – писаришка штабной!
Штабного я бил в белы груди,
Сшибая с грудей ордена...
Ой, люди, ой, русские люди,
Родная моя сторона!"
Эти песни, написанные Алексеем Охрименко с друзьями, отпевали сталинскую эпоху. Что-то рвалось из-под её глубоких снегов. Какое-то странное зубоскальство и тяга к юродству – к выставлению своего убожества на продажу и спекуляции на сострадании. Природу этой творческой стихии тогда, в послевоенные годы, не понял никто, потому что не особенно вглядывался. Это было нечто, существующее на культурной обочине, и заслонённое великой трагедией закончившейся войны.
В среде писателей и поэтов было немало тех, кто приветствовал это маргинальное творчество, видимо, полагая его весёлым разбегом, после которого произойдёт взлёт. Автор, проявивший талант, оставит позади все эти "ошибки юности" и рванёт ввысь, к подлинной драме и истине. Так наверняка думал Олеша, слушавший Охрименко. Так думал Фатьянов, написавший песню, которая заставила плакать Сталина, – знаменитые "Соловьи".
Они просчитались. Никакого взлёта далее не последовало. Соратники Охрименко быстро исчерпали себя, а сам он вполне показал, к чему устремлён. В каждой новой песне зазвучало глумление. Он спел про Гамлета и Отелло, Шекспира и Ломоносова, Сцеволу и Ларошфуко. Все эти песни одинаково низки и расчётливо эпатажны. Это поэтический лубок, исполненный под гитару, вульгарный пересказ сюжетов и биографий, где всё приземляется и сводится с пьедестала. Это мгновения низкого торжества, какой-то уж совсем мелкой радости. Практически все песни вымучены – видно, что дарование иссякает, и в поисках ярких строк автор опускается до пошлятины.
Вот эти яркие строки, парящие над потоком очевидной банальности:
"Был Ларошфуко не воин,
Был он дипломат – орёл,
Либерально был настроен,
В бардаках всю жизнь провёл...
Под конец он стал известен,
Весь Париж держал в руке,
И погиб как рыцарь чести
С переёба, в бардаке".
В исполнении человека почтенного, который во времена "перестройки" дождался славы и собрал, наконец, полный зал, такая лирика звучит дико. Голос пожилого интеллигента абсолютно дисгармонирует с содержанием чисто очернительских шлягеров, и возникает неприятное чувство. Кажется, что поёт гадкий дедушка.
Кто-то скажет, что эти песни породил весёлый нрав автора. Но их явно породило другое – тщедушное "я", рвущееся к признанию и выбравшее приём, которым достичь этого легче всего.
Охрименко прожил долгую жизнь. Причём прожил её раздвоено: днём служа в советской газете и соответствуя, а вечером – осторожно выпадая из рамок. У него нет практически ничего, за что можно было бы поплатиться – сесть или оказаться на улице. Это такая особая революционность, за которую не наказывают. Есть бойкий стишок про Сталина, но он был надёжно спрятан от чужих глаз, и вынырнул очень вовремя. Вся остальная лирика не касается власти, и поэтому "за рупь за двадцать" автора не возьмёшь. За что наказывать? За вульгарность? За стрельбу по культурным символам? Нету такой статьи.
В отличие от Вийона, своего очевидного вдохновителя, Охрименко не сгорел во грехе, а оказался умерен. Его личная война была войной против всего, что находится выше. Идя в атаку на памятники, он ни разу не предъявил собственные символы веры. Похоже, что их попросту не было, и именно это порождало его раздражение.
На склоне лет Охрименко сотворил краткий дразнящий цикл "Алкаши идут, алкаши". В этот период жизни он словно ищет истину на дне стакана, зная, что там её нет. Это сильная, восклицающая поэзия, поражающая своей безнадёжностью, своим гаснущим светом. Это его реквием.
"Мой прах снеся на кладбище,
Друзья надо мной провоют,
А после, зайдя в жилище,
Глотки свои промоют...
Надо считаться с фактом
И не кичиться культом –
Сильный убит инфарктом,
Мудрый сражён инсультом.
Очень уж безобразна
Жизни и смерти драка –
Труса сглодает язва,
Храбрый умрёт от рака.
А я вот от алкоголя,
От синего самогона...
Твоя, о Господи, воля,
Твоя святая икона!"
Логика творчества привела Охрименко к абсолютному мраку – к констатации ужаса жизни как таковой. И невозможно не видеть, что это желанный вывод. Бард просто упивается собственным отчаянием, собственным пессимизмом. Ему мила его обречённая поза. Ему сладка его песня на краю пропасти. Не будучи безбашенным маргиналом, он хорошо понимает: надежда, вера и восхождение... – всё это пресно, скучно, накладно. Это не в почёте у тонкой, понимающей публики. Это поляна, на которой пасётся официоз. У него другой путь – петляющий по обочине. У него абсолютно иная нота. На краю, со стаканом и обожжённой глоткой – только так, только рисуя себя таким, он может окончательно оттопыриться и создать то, что запомнят. Охрименко даром не нужны ни свет, ни надежда. Мрак и отчаяние, приближение к бездне, вот что творит его закатную песню.

И только под самый занавес с бардом что-то произошло. Словно взгляд в бездну потряс его душу. Неожиданно тремя грустными четверостишиями из певца вырвалось что-то подлинное. Прозвучали камерные ноты, лишённые привычного позёрства и эпатажа – ноты сочувствия и непридуманной человеческой драмы, от которой он всю жизнь бежал.
"Ещё мужчины оборачиваются,
В какую сторону не шли,
А дни летят и укорачиваются,
Как в дальнем небе журавли.
Дублёнка петухами вышита,
Копна волос, задорный взгляд,
А жизнь и прожита, и выжита,
И горько посмотреть назад.
Ещё гуляет до рассвета
И руки к чьей-то льнут груди,
Но это – просто бабье лето,
И только осень впереди".
Анти-Высоцкий
В 1983 году ощутимо повеяло мертвечиной – словно где-то подохла крыса. Из магнитофонов зазвучала "Баллада о поэтах". Некий салонный тенор тонко глумился над Пушкиным, Лермонтовым, Маяковским, Есениным и Высоцким, чья недавняя смерть потрясла всю страну.
Вот эта лирическая забава, от строки до строки.
"Жил поэт у нас когда-то,
Всем поэтам брат старшой.
Превеликого таланта
И отваги пребольшой.
Вечно ссорился с царями,
Не вылазил из долгов,
Хоть и был любим друзьями,
Но не скрылся от врагов.
И за вызов дерзновенный
На дуэли был убит.
Но пришел ему на смену
Новоявленный пиит.
Этот был к тому ж поручик
С сердцем тяжким, как металл.
Написал стихи про тучку,
И убили наповал.
Время шло, эпохи мчались,
Мир трясло от войн и бед.
Века нашего в начале
Появился вновь поэт.
Он любовь не свадьбой мерил,
Всюду первым быть хотел,
В правду новую поверил
И на этом погорел.
Умным головы свернули,
Дураков не теребя.
Не дождавшись чьей-то пули,
Пристрелил он сам себя.
А собрат его, гуляка,
Утопив тоску в вине,
Под забором пел и плакал
По ушедшей старине.
Бился, как шальная птица,
В окна нового житья
И, не дописав страницы,
Сам повесился шутя.
Время шло, меняя даты,
Волки кушали овец.
Наконец пришел хрипатый
Необузданный певец.
Вместе с нами, дураками,
Хохотал над всем до слез
И своими же руками
Сердце вдребезги разнес.
Что-то стало скучновато,
Снег мешается с дождём.
Кто же следующий, ребята?
Будем живы – подождём!"
Автор не просто отплясывал на свежей могиле, поглядывая на могилы мемориальные. Он давал понять, что вся эта отвага и гордость, все эти слёзы, пафос и хрип – дело абсолютно пустое, и каждый, кто длит эту традицию, жалок.
И словно услышав это мелкое торжество, пришёл "следующий". Тот, кто, невзирая на холодный смешок, "встал и песне подвязал оборванные крылья". Это был Александр Башлачёв.

Салонный тенор, которым отпевалась уже не предшествующая эпоха, а живая традиция русской поэзии, принадлежал Евгению Бачурину, весьма известному барду. К тому времени он спел немало песен и вполне доказал, что талантлив.
"Я спрошу у Господа
Слова покаянного,
Отчего мы попросту
Стали окаянными.
От житья кабального
Нету часа лишнего,
Для расчёта дальнего
Не жалеем ближнего...
По какому поводу,
По чьему велению –
Были люди добрые,
Стало население.
Так помилуй, Боже мой,
Души наши грешные!
За деньки острожные,
За дела кромешные".
Бачурин – яркая и интересная личность. В отличие от Охрименко, своего творческого собрата, его мировоззрение не черно. У Охрименко, кроме стихов и гитары, есть лишь одно средство мистического прорыва – стакан. У Бачурина есть кисти и краски. Он – художник-авангардист. Он зарабатывает картинами и иллюстрациями. Он не служит официозу, как многие диссиденты, и поэтому его сознание не раздвоено. В нём нет злобы, которая порождена безысходностью и презрением к себе самому. У него нет ощущения того, что он узник. Бачурин знает, что рано или поздно дверь в большой мир распахнётся. Он уверен, что там его ждут.
Как многие барды, Бачурин переболел романтизмом в шестидесятые, когда полагалось проповедовать всё прекрасное и высокое. Но болел он недолго, и в семидесятые вошел лёгкой походной, словно сбросив с плеч груз. С его уст стали слетать весьма циничные манифесты.
"Добывая себе на прокорм,
Отрекись от великих служений,
Опасайся высоких платформ,
Берегись силовых напряжений.
Каждый миг под колеса судьбы
Сможет бросить любая ничтожность.
Осторожность превыше борьбы!
Осторожность!
Пусть болтает безглазый народ,
Будто главное в мире — доверье.
Кто других пропускает вперёд,
Тот всегда остается за дверью,
Тот всегда пропадает внизу,
Проклиная свою безнадежность,
Осторожность превыше безумств!
Осторожность!"
Это не сатира, не насмешка над осторожностью. Это спето всерьёз – как "правый марш" на подпольной маёвке. Это провозглашено как открытие, как личный закон сохранения энергии и долголетия. Если бы Бачурин его не открыл, то не глумился бы над теми, кто бросал вызов, вставал под пулю, стрелялся, лез в петлю и рвал своё сердце.
Густой осторожностью пропитано всё творчество барда. Его дежурный антисоветизм обложен семью подушками. Он поёт про глиняных пионеров, которые грохнулись и задавили старую скульпторшу. Метафора очевидна. Скульпторша – советская власть. Но догадку к делу не подошьёшь. Всегда можно сказать: "Вы сошли с ума! Я спел про несчастную бабушку".
Его знаменитый "Вальс протеста" настолько туманен, что невозможно понять, о чём звук? Кто такие "непокорные дети покорённых отцов", про которых поётся? Почему "вам колодки по нраву, вам решётки к лицу", если "здесь душе вашей тесно и противно уму"? "Протест" этот непросто расшифровать. Из песни ясно одно – надо сваливать.
А вот это не требует расшифровки:
"Я куплю себе последние ботинки,
Заработаю на свой последний хлеб,
Я в последний раз женюся на блондинке,
А потом, чтоб я оглох,
А потом, чтоб я ослеп, –
Не вернусь домой с последней вечеринки".
Слушая песни Бачурина в порядке их появления, неожиданно понимаешь, какая свобода ему мила. Это свобода падения. Его ключевая метафора – падающий лист, который, оторвавшись от дерева, обретает истинное и недолгое счастье. Чем ближе земля, тем острей твои чувства. Это падение с обратным отсчётом, исполненное эротического экстаза.
"С ветки падающий лист
В день осенний золотист,
Он по воздуху кружится
И танцует, как артист...
Нет ни братьев, ни сестёр,
Он один на весь простор,
Он пьянеет от свободы
И пылает, как костёр...
Если б листья знать могли,
Сколько лёту до земли,
А потом лежать-валяться
Под ногами и в пыли...
Так для каждого из нас
Сердцу мил свободы час,
И порой не жалко жизни,
Чтоб хлебнуть её хоть раз..."
Основной мотив творчества Бачурина – смерть. Это невозможно не видеть. Бард словно поёт, стоя на могильной плите. Он всё измеряет смертью. Он постоянно оглядывается на неё. Он торопится надышаться и ухватить последние радости. Он культивирует минуты страсти. Он боготворит лето, что будет подхвачено бардами и станет их вечным припевом. Надо жить, наслаждаясь, а не борясь. Надо освободиться от пафоса, высоких мечтаний и подвигов. Пусть все эти "рыцари" уберутся к чертям, громыхая своими доспехами! В этом его утверждение, его невроз и противоборство. Всё что исполнено идеалов, самопожертвования, душевной боли и хрипоты, должно быть осмеяно. Пусть всё это танцует вальсом, а мы... Мы возьмём под руку даму и проследуем в романтичные сумерки. Нет ничего выше любви!
Конечно. Выше нет ничего... Только бард поёт не о той любви, что творит чудеса и вдохновляет на великое дело. Он поёт чисто конкретно – "про это". Он ведёт Прекрасную Даму в "жасминовый куст", а потом провожает, как джентльмен. И видно, что она ему нужна ненадолго.
В 1993 году Бачурин сочинил "Великанский вальс", где изрядно потешился над "народом-великаном", потерявшим свою империю зла и тщетно ждущим от карликов великих решений. В этой песне впервые вслед за вульгарной антисоветчиной всплывает народофобия.
Все девяностые бард пребывает на своей наркотической высоте. Всё складывается неплохо. Он занят творчеством. Его полотна (эти модные окна в мир одиночества и бессмыслия) покупают состоятельные граждане и музеи. Он парит над грубой реальностью и погружён в свои последние страсти.
"Где страсть кипит ключом, там ни при чём семья и брак.
Нас так сближало всё – любовь к искусству и к природе,
Шампанское со льдом, а после кофе и коньяк".
Иногда его песни напоминают заметки фенолога.
"Заслонило солнце тучей,
Как лицо рукой,
И пролился дождь на землю
Ягодно-грибной".

Бачурин сходит на грешную землю лишь под занавес века. Его пробуждает дефолт. Он начинает подозревать, что может утонуть со страной. Не настолько он именит и востребован, чтобы ничего не бояться. Бард сердится – поёт про "беспредел во власти и обвал рубля", но объясняет всё исключительно русским фатумом.
"Молотом там пашут,
И серпом куют.
Дураков не учат,
А воров не бьют.
Я – Счастливый случай,
Только вот беда:
Сделаешь как лучше –
Выйдет как всегда".
Бард вздрагивает в день пожара на Останкинской башне. С крымского берега он шлёт в Москву стихи о том, что его растревожило.
"Огнеопасным стало зарево зари
На постсоветском перепаханном пространстве,
Гори, останкинская башенка, гори –
Россия в трансе...
Качайте нефть, воруйте никель и титан,
Откройте краны все, а завтра вскроем вены.
В который раз горим, полундра, капитан,
Врубай сирены".
Он просит это где-нибудь напечатать. "Зачем?" – вот вопрос.
Телебашни полыхают не просто так. Не сами собой возникают воровство и бардак. Не сама собой происходит криминальная революция.
Осмеяно идеальное – всё, что мобилизует на подвиг, дело, самопожертвование. Избыто всё, что заставляет работать "отцовским мечом", отстаивать, рвать аорту – то есть творить то высокое, то высоцкое, над которым он так мило, так аристократично прикалывался.
Кто виноват в том, что торжествует ворьё и горит башенка? Да ты и виноват, бард. Вместе со всей творческой кодлой, льющей в мир безволие и бессмыслие.
...Гуляет по стране смерть, и не с косой, а с гитарой, и поёт свои любимые песни – про минуты страсти, про лето, про глупых рыцарей. А вокруг стелется дым. Вроде крикнули где-то. Но кто это был? Человек или ворон, спорхнувший с ветки?
Русское сердце
"Я не мог больше жить в стране сплошной лжи", – произнёс уехавший бард.
Таких стран не существует в природе. Но не это главное. Никто не имеет право так говорить о России. И совсем дико слышать это от человека, который четверть века вздыхал и плакал о своих чувствах к Отечеству.
Когда уезжает известный бард, да ещё хлопнув дверью, остаются не только ожоги от брошенных слов. Остаётся некое недоумение. Оно связано с тем, что бард свои гонения, говоря мягко, преувеличивает. Раз, примерно, в пятьсот.

Женю Клячкина вывезли из блокадного Ленинграда, сберегли, а потом передали на руки вернувшемуся с фронта отцу. Он получил бесплатное образование, стал инженером, жил вполне сносно, а потом стал пробиваться на сцену.
Клячкин проявил себя упорным популяризатором творчества Бродского. Он оказался загипнотизирован его лирикой – сражён наповал заданной планкой и мягкой, упоительной чуждостью всему здешнему. Барда вдохновляли и другие авторы, у которых он многое перенял, но Бродский с его одинокой, ледяной нотой сделался путеводной звездой. Он бесконечно копировал его ритм, его темы, его ностальгию. В семидесятые Клячкин стал обретать собственное лицо. Своёпроявлялось в искренних порывах, когда вдруг сжималось сердце и забывались стихотворные формы. Его песня, посвящённая погибшей в блокаду матери, чиста и прекрасна.
"Я должен знать, свой провожая век
И черпая из твоего огня,
Что прожил эту жизнь, как человек,
И что тебе не стыдно за меня".
Но в погоне за Бродским всё это растерялось. Погоня эта была совершенно бессмысленной. Клячкин не способен был ни догнать, ни превзойти своего кумира по простой и ясной причине – в нём было слишком много вульгарного, импульсивного, хамского.
Это сидело в Клячкине изначально. Оно засыпало и съёживалось, когда накатывали высокие чувства, и просыпалось, когда толкали в спину в троллейбусе. Оно забивалось в дальний угол под воздействием русской культуры и проявлялось во всей красе под воздействием русской реальности. Лучшее в здешнем мире возносило, худшее – приземляло. Песня Клячкина это вполне отражает. Она то взлетает, то падает.
По своим убеждениям Клячкин был пещерным антисоветчиком. Что породило эти настроения, абсолютно понятно. Их породила особая атмосфера, которая царила в кругу творческой интеллигенции. Здесь антисоветизм стал правилом хорошего тона, и Клячкин этому правилу следовал. Он слепо вторил обличителям и насмешникам. Его песенка о "товарище Фадееве" показательна. В ней подленький аппаратчик сажает барда за то, что он бард. Это ироничный гротеск, призванный позабавить людей своего круга, да ещё намекающий на того, большого Фадеева – директора советского писательского завода. Фадеев – фигура трагическая, но какое до этого дело глумливому автору? Он вообще ни в чём разбираться не собирается. Он хочет выглядеть смельчаком, атакующим советское с позиции высокой морали. В дальнейшем это станет бетонным принципом. Вставая в привычную позу, он будет моральным исполином возвышаться над советской реальностью и "беспросветною Русью".
При этом смельчак отнюдь не стремился сориться с властью. О его убеждениях знали только люди надёжные. Однажды в троллейбусе у барда конфисковали запрещённую книгу, которую он увлечённо читал. На встрече с чекистом, заглянувшем к нему на службу под видом режиссёра "Ленфильма" (поразительная тактичность!), Клячкин заявил, что с прочитанным не согласен категорически. А книга к нему попала случайно – от одного эмигранта.
В 1990-м бард поразил всех. Он не просто уехал. Он оставил после себя поэтическую грязь и проклятия.
Понять было ничего невозможно. Клячкина никто не гнобил и не оскорблял. Россия матерных слов, которыми он её приласкал, явно не заслужила. С головы евреев здесь не упал ни один волос. Это признала Елена Боннер. Здесь не получил общественной поддержки ни один кричащий антисемит, а общество "Память", на которое горячо указывал бард, считалось стаей придурков. Такие есть всюду.
Истинная причина отъезда была очевидна. Россия вступала во времена перемен – те самые времена, жить в которые желают только врагу. Клячкину не хотелось разделять судьбу Родины – тащиться с ней по этой дальней дороге. В своих песнях он предстаёт человеком опустошённым, осознающим, что жизнь уже за плечами.
"И все проблемы, бледные, как тени, –
любить и верить, помнить и жалеть, –
не требуют ни слов, ни обсуждений
и сводятся к проблеме — уцелеть".
Клячкину уже важны лишь покой и достаток. Но громко заявить об этом, значит, отказаться от написанных песен. Чего стоит любовь барда, если ради неё он не способен на жертву? Чего стоят все его вздохи? Поэтому бард кричит о другом. В дни, когда страна погружается в хаос, а интеллигенция упражняется в русофобии, он обвиняет Россию в том, что она не разорвала на части сумасшедших из "Памяти".
Ещё в начале семидесятых Клячкину пришёл вызов из-за границы. Тогда он попрощался с Россией уважительно и возвышенно:
"Я прощаюсь со страной,
где
Прожил жизнь, не разберу
чью
И в последний раз — пока
здесь
Этот воздух как вино
пью".
Он не уехал. Впоследствии бард объяснял это соображениями высокими: считал, что нужен народу. Но его песни говорят о другом. Не он был нужен, а ему было нужно. Целый цикл озабоченной лирики однозначно указывает: его удержало великое богатство России, заслоняющее собой все здешние неурядицы, – женщины. Он очень боялся это богатство утратить. Рассказы друзей вполне подтверждают эту вроде бы нелепую версию: когда в поле зрения барда появлялась красивая женщина, его сердцу становилось тесно в груди. Он шёл вперёд, не глядя на красный свет.
"Чадит ли там или горит –
всё это жалкий прах,
но если у тебя стоит –
всегда ты будешь прав".
К 90-му году эта сторона жизни его уже не волновала.
""Вы просто Везувий! — вскричала она... –
я стойко боролась с моим наважденьем.
Пред страстью беспомощен смертный и слаб".
(И тихий, но внятный услышала храп.)"
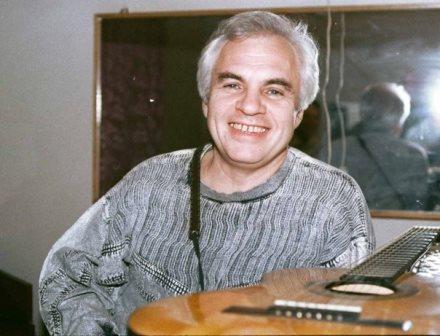
Ему уже хотелось просто жить, сытно, комфортно, с "павлинами во дворе". За ними он и отправился на Святую землю, прося винить в своём отъезде орущих гадов, молчащий народ и реакционеров в коммунистической партии.
На новой родине Клячкину вручили пёстрый букет унижений. Барду пришлось доказывать, что он не русский. Его рязанское лицо не внушало доверия экспертам "министерства абсорбции". Он узнал истинную цену своей популярности, выступая в полупустых залах. Чтобы заработать на жизнь, он напросился на гастроли в проклятую и покрытую матом Россию. И наконец, он опустился до предела уже символического – стал служащим отдела канализации.
Клячкин унизился и без посторонней помощи – стишком "Весенняя песенка онаниста" и хлёстким хамством в адрес народа, к которому собирался ехать с гитарой. Он очень быстро превратился в банальность. Его творчество, состоящее теперь из злобных претензий и уродливых откровений, очень быстро иссякло. Бард утратил свой дар.
Кончилось всё трагедией. Сердце Евгения Клячкина остановилось в 1994 году во время купания в море. Оно просто перестало биться, послав подальше всех этих "павлинов", весь этот материальный комфорт, давшийся такой вот ценой. И в этом было что-то глубоко русское.
Пастырь
Однажды один бард пришёл к другому с подарком – звонкой, весёлой песней:
"Бывало в обороне
Мы мокли под дождём,
Теперь сидим в "Риони",
Едим и вина пьём...
Имей же, Рейган, совесть,
Пойми, к чему клоню –
Ведь всё, за что боролись,
Записано в меню!"
Есть нечто показательное в этой песне. Нечто демонстративное. Вот не просто указать на своё ничтожество, а ещё по струнам махнуть – чтобы на весь мир разнеслось.
Казалось бы, интеллигенция обречена мыслить сложно. Её мотивы не могут быть примитивными. Она не может уподобляться мещанам. Так почему она это поёт? С какой дури она утверждает такое? Ведь боролись за человечность, за свою страну, за историческое бытие, которое Гитлер хотел прекратить. Не за меню же.
Но в том-то и дело, что и поющий, и слушающий – это интеллигенция особого рода. Это "псевдо", перерожденцы – новая, быстро растущая общность, предавшая собственный класс и ставшая ядром армии обывателей. Эта общность сохраняет все внешние признаки интеллигенции. Она вежлива, умыта, причёсана. Она читает, пишет и рассуждает. Но она абсолютно враждебна всему, что жизненно важно интеллигенции. Она враждебна её вечному беспокойству, её увлечённости делом, её духовному восхождению. Она враждебна русской хилиастической ностальгии. Ей отвратительно историческое движение, государственное строительство. Она презирает людей, которые в это вовлечены. Ей смешны поиски истины, каких-то там метафизических оснований. Она абсолютно всё знает. Ей любо другое – желудок, комфорт и фрондёрство.
Охрименко песенку свою, привычно отмороженную, посвятил Окуджаве, который с каждой её строкой оказался полностью солидарен. Он написал практически то же в стихотворении "Божественное". Там знаменитая тройка на фронтоне Большого театра срывается вниз и несётся по магазинам.
"...мимо троллейбусов, через снег,
чтобы под дикий трезвон уздечки
прочно припасть на все времена
к розовым россыпям сытной гречки,
к материкам золотого пшена...
С Духом святым, и Отцом, и Сыном
по магазинам... по магазинам..."

Булат Окуджава... Сакральное имя позднесоветских времён, усомниться в котором немыслимо. Он – гуру, нравственный символ и вообще "наше всё". Его любят слепо и предано. Всё, что он поёт, гениально. Всё, что говорит, мудро. Он символ движения, объединяющего поэтов с гитарами. На его выступлениях люди встают и качаются, взявшись за руки.
Так было вплоть до девяностых годов. А потом пришла история, и её ветер стал срывать лукавые маски. Слетела она и с лица Окуджавы. "Поэт и гражданин" приветствовал расстрел Белого дома, поддержал "реформаторов", поклонился Ельцину, с руки которого ел, и истерично, на всю страну, восславил террориста Басаева. "Нравственный символ" ни единым стихом и аккордом не отозвался на горе миллионов людей, сброшенных в нищету и отчаяние. Он увлечённо смотрел "Санта-Барбару", ездил на заседания казённых комиссий (где собирались сплошь люди-символы) и обвинял в бедах, постигших страну, национальную психологию – русскую суть.
Число его поклонников в эти годы резко пошло на убыль. Трудно любить поэта, даже сладко поющего, если он встал на сторону ликвидаторов государства, да ещё в оправдание этой публики несёт злобную чушь. В ком восторжествовала ужасная национальная психология? В его друге Чубайсе? В Гайдаре, Бурбулисе, Березовском и прочих, ни к ночи помянутых? Русская суть проголосовала за сохранение СССР и его обновление. Она не голосовала за распад, дикий рынок, анархию. Эта суть очень консервативна. А если речь идёт о русских маргиналах, которые сгрудились в банды, то создайте условия, и они появятся в самой благопристойной стране.
"Поэты плачут, нация жива!" – пел бард в эпоху, когда страна поднималась. А когда она катилась в пропасть, демонстративно уставился в телевизор. Убийство комара в 1982 году Окуджава пережил тяжелее, чем отчаяние и гибель миллионов людей в девяностые. В то время многие задавались вопросом: ну и где твои слёзы, поэт? Может, ты поплачешь немного, чтобы нация не умерла?
В планы барда это никак не входило. От него услышали нечто далёкое от сострадания. Он обозвал людей, отстаивающих советские ценности, "войском без крыл", которое атакует свободу, но уже не победит, как "в том, сорок пятом". Он призвал подсадить "Ивана" на "деньжата", чтобы он шкурничал, а не ездил на танке. И сочинил позорнейший "Гоп со смыком", где прокричал про "фашистов", которым рукоплещет толпа, не заслуживающая называться народом.
"...зря я обольщался в смысле масс.
Что-то слишком много сброда —
не видать за ним народа...
И у нас в подъезде свет погас".
Когда знаменитый актёр Владимир Гостюхин сломал пластинку Окуджавы на митинге, либеральная общественность усмехнулась. Она была уверена: всё это только добавит певцу популярности. Но в тот момент что-то фундаментально треснуло. Нырнуло это имя куда-то, прямо с митинга – в тень, где сегодня и пребывает. И как бы ни усердствовал в наши дни хам биограф, как бы ни обзывал всех, кто не возлюбил Окуджаву, былого уже не вернуть. Поступки и откровения барда заставили взглянуть на его творчество трезво. И нарисовался настоящий портрет – таящегося до поры русофоба, псевдоинтеллигента с гитарой, который растянул на десятилетия один до омерзения расчётливый звук.
Окуджава рано сделал своё открытие. Он первым увидел, что существует на свете не просто маленький человек, а человек, дорожащий собственной малостью. Этого человека пугают марши и громкие фразы. Ему никакое движение, никакие лозунги и поиски не нужны, а нужны умиротворение, покой, бестревожность. Этот человек измучен песнями о героях, которые горят в самолётах и бросаются на пулемёт. Ему это неприятно, потому что сам он на месте героя не хотел бы оказаться даже во сне. Он заждался другого – того, чего в советской культуре просто не существует: песен о малом, интимном, печальном. Того, чего эта культура упорно не желает производить. Она ведь так навязчиво и шумно устроена – всё взывает, учит и не даёт попечалиться. А не надо учить, не надо шуметь. Нужно тише, спокойнее, обречённее. Нарастить вокруг себя скорлупу и насладиться своим одиночеством, своей незначительностью, своим разочарованием в жизни – вот чего этот человек ждёт. Помоги ему. Дай ему то, что он хочет, спой ему его колыбельную, и он вознесёт тебя до небес. Он будет внимать тебе словно богу.
"Когда мне невмочь пересилить беду-у,
Когда подступает отча-аянье-е,
Я в синий тролле-ейбус сажусь на ходу-у,
В после-едний, в случа-айный.
Последний троллейбус, по улице мчи-и,
Верши по бульварам круже-енье,
Чтоб всех подобрать потерпевших в ночи-и
Круше-енье, круше-енье..."
В страстном стремлении нравиться Окуджава признавался неоднократно. В этом было что-то небардовское. Когда его товарищи зачехляли гитары, оскорблённые качеством аудитории, он готов был петь дальше. Друзьям-бардам были неприятны пустые, мелкие люди. А ему они и были нужны. Он знал, что сейчас заведёт шарманку свою про троллейбус, и аудитория размякнет и станет печалиться. Каждый слушающий вспомнит о себе, крохотном и несчастном, и проникнется к автору, тронувшему его за живое, чувством светлой признательности.
Этот метод обольщения Окуджава с годами довёл до блеска. Он научился нравиться. Для этого было не так много нужно. Он достучался до своего слушателя. Он спел ровно то, что мелкодушие хотело услышать.
Вслушайтесь в песню "Бумажный солдат". Это смех над хилиазмом, над идеей служения, защиты, противоборства. И это очевидное торжество того, кто ни сражаться, ни гореть не собирается.
"А он, судьбу свою кляня,
не тихой жизни жаждал,
и всё просил: "Огня! Огня!"
Забыв, что он бумажный.
В огонь? Ну что ж, иди! Идёшь?
И он шагнул однажды,
и там сгорел он ни за грош:
ведь был солдат бумажный".
Можно представить, какой звон эмоций порождала эта песня в мелкой душе! Как она возвышала над "бумажным солдатиком", которым теперь назовут всякого, кто борется, отстаивает, "изображает героя". Песня избавляла от комплексов и наполняла невиданной спесью. Пустота, наедающая ряшки по ресторанам и хиляющая по улицам стиляжной толпой, обрела смысловое оружие – сокрушительный символ. И она держится за него уже более полувека. Неслучайно, розовый поросёнок, устроившийся в кино, ухватился за этот образ, пытаясь свалить с пьедестала последнего неуниженного героя – Гагарина. А ещё неслучайно то, что все, кто сегодня воспевает тлен и безверие, расписываются в своей любви к Окуджаве.
Он стал пастырем в глазах мелкого человека, жаждущего развенчать всех героев. Того самого человека, который вскоре будет с упоением читать мерзости перестроечных публицистов. Бард отпустил ему все грехи. Но главное – он дал этому человеку псевдомораль. Слабость, греховность и мелкодушие прекрасно сочетаются с человечностью. В них-то и проявляется человечность. Такова логика Окуджавы, охотно, а иногда навязчиво признававшегося в воровстве, трусости, конформизме, безверии, демонстративно покупавшего порно и сообщавшего о своих походах в стрип-бар. Иногда он смущал собеседников, например, журналистов, вовсе не ждущих таких откровений и не знающих, что ними делать. Не хотелось им бросать тень на барда. Наивные. Именно таким его образ и должен быть, чтобы множить поклонников. Святой не тот, кто безгрешен. Нет безгрешных на грешной земле! Святой – тот, кто не указывает "великие цели", не тычет в нос "ненадёжными истинами", не тащит всех за собой и не пособничает "султанам", а просто живёт, как умеет.
А жизнь для Окуджавы состоит из мгновений плотского и душевного наслаждения. Пришла женщина, собрались друзья, наполнилась рюмочка – в такие минуты душа оживает. Ловить "мгновения" и означает для него – жить. "За мгновения!" – любимый тост барда.
"Я сидел в апрельском сквере.
Предо мной был божий храм.
Но не думал я о вере,
я глядел на разных дам...
Как на лавочках сиделось,
чтобы душу усладить,
как на барышень гляделось,
не стесняйтесь говорить".
Окуджава – это Ницше для муравьёв. Не только сверхчеловек сам себя судит. Это позволено и букашке, рождённой ползать. Окуджава предлагает всем "муравьям" равняться на себя, "муравья московского". Его философия: лови мгновения и не особо стесняйся. Наши грешки – это ничего, это дело житейское. Малое зло не считается злом, потому что есть зло великое – тирания, мрачная громада государства с его войнами, пафосом и фанатиками. Если мы в великом зле не участвуем, мы чисты и прекрасны. "Мы крылья белые свои почистим".
На сайте "Песни Булата" поклонники Окуджавы всё договаривают до конца. Вот типичное воспоминание о себе, любимом, в эпоху СССР: "Я, живший в той стране, свидетельствую, что общественное мнение не порицало ни браконьерства, ни таскания инженерами, мобилизованными на колхозные работы, овощей и фруктов с колхозных полей. Не зазорно было и проехать "зайцем" в общественном транспорте. Иными словами, если что-то "воровалось" у государства, людьми это не воспринималось, как нечто безнравственное. Почему? Да потому что само государство воспринималось именно как нечто безнравственное, бессовестное".
Так истинные поклонники Окуджавы решали нравственные проблемы вчера. Можно представить, как они их решают сегодня. Да им просто необходима ужасная власть – "безумный султан" или "партия жуликов и воров". Чем ужасней правители, тем глуше голос собственной совести. Не дай бог, власть изменится и исполнится высоты. Тогда исчезнет и оправдание. Логика же проста: делай что пожелаешь, а потом бери гитару и очищайся высокой песней про сволочей наверху. Булат Шалвович – это великая пристань для подобного рода публики. Он для неё и поёт.
Окуджава прекрасно понимал своего потенциального слушателя, этого прозябающего и погружённого в банальную суету человека. Того самого человека, чью душу истерзали официальные лозунги и героические примеры. Того самого человека, которого тянет сбросить с себя весь этот груз (культов, смыслов, избыточно умных фраз) и удовлетвориться простыми желаниями. Он видел, что его становится много. Нужно было найти для него какие-то правильные слова. И тогда он выползет из норки своей и придёт на концерт, где возьмёт за руки обретённых "друзей", и станет раскачиваться. Он испытает оргазм псевдоколлективизма, минутную гордость от того, что влился в некое праведное и тонкое "мы". Он пропоёт лживый гимн, не заметит лукавый образ, в него включённый (утопленницу Офелию), а потом убежит домой темнеющей улицей – вернётся в своё одиночество, свою тоску, отныне озвученную некой сладостной нотой. И уже навсегда окажется к этой ноте привязан.
"Держава! Родина! Страна! Отечество и государство!
Не это в душах мы лелеем и в гроб с собою унесём,
а нежный взгляд, а поцелуй — любови сладкое коварство,
Кривоарбатский переулок и тихий трёп о том, о сём".
Окуджава не был сумасшедшим, чтобы объявить: мы жалкие атомы, обречённые рассеяться и исчезнуть. Мы псевдоинтеллигенция, нашедшая удобную нам правду о человеке и государстве. Мы осознали нищету своего духа и хотим прожить свою жизнь без тревог и всяческих "восхождений". И каждого, кто вовлекает нас в борьбу, социальную работу и нелепое "восхождение", мы объявим безумцем, пособником "султана" и врагом человечества. Мы отобьёмся от этой "армии врагов". Мы разгоним их звуками нашего гимна. А потом уснём, не досмотрев "Санта-Барбару".
Он не был сумасшедшим, чтобы так петь. Не хочет мелкий человек жить с клеймом обывателя. Ему нужно себя уважать. Он хочет услышать про свои чистые помыслы и белые крылья. Поэтому бард про эти крылья и пел, объявляя свою паству "братством единомышленников". Он пел про "прекрасное и высшее", о котором не имел представления. И паства, понимая не больше, чем бард, с удовольствием за ним повторяла. Он тонко обслуживал это псевдосообщество, заполняя его кричащую пустоту некими горделивыми звуками.
Как пастырь, Окуджава усердно работал над собственным образом – гиппергуманиста. Его послушать – нет на земле большего добряка. На это повелись очень и очень многие, включая людей вовсе не мелких. Ну, как было не проникнуться подобными строками:
"Виноградную косточку в теплую землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь своё сердце настрою,
А иначе, зачем на земле этой вечной живу?"

Сегодня, когда открылись глаза на всех без исключения добряков, слушать Окуджаву мучительно. Ты просто видишь приёмы. Видишь, как бард привлекает внимание гуманистической нотой, а потом вкачивает в сознание тоску, апатию, отстранённость. Как он спекулирует на теме войны. Как, пользуясь доверием к слову фронтовика, описывает то, чего не мог видеть, и наполняет фронтовую лирику плохо скрытой издёвкой. Как он под видом пацифизма протаскивает идею капитуляции и доходит в этом до крайности: рисует образ абсолютного зла ("чёрный мессер") и говорит, что не желает с ним драться. Как противопоставляет ужасным генералам, думающим о войне, правильных лейтенантов, думающих о своих женщинах. Как он лукаво критикует "застой" с точки зрения революции – поёт про "комиссаров в пыльных шлемах", а потом отрекается от них по звонку политического будильника. Как постоянно намекает на некое посланное ему знание, а потом обманывает ожидания, напуская тумана. То есть просто играет на комплексе невежественного человека, который страшится признаться, что не уловил, о чём звук. Ты понимаешь цену строкам, предназначенным для женского слуха. Ты видишь личную технологию соблазнения – напеть даме, уставшей от грубой реальности, нечто для неё удивительное и тем покорить. Ведь не трепетные песни про "Ваше Величество" отражают истинное отношение барда к женщине, а шлягер "Старый пиджак", который мог состряпать только насытившийся "победами" хам.
Однако, есть и другое. Окуджава постоянно поёт о смерти. Десятки стихов и песен словно написаны живым мертвецом, полностью сконцентрированным на теме ухода из жизни. У него запахом тления, обречённостью пронизано всё, включая знаменитые гимны. Это магистральный мотив его лирики. Бард считает дни, считает "мгновения", и обречённо смотрит на трепещущий огонёк собственной жизни, уже не способный ничего осветить.
"Горит пламя, не чадит,
надолго ли хватит?
Она меня не щадит –
тратит меня, тратит.
Быть недолго молодым,
скоро срок догонит.
Неразменным золотым
покачусь с ладони.
Потемнят меня ветра,
дождичком окатит.
А она щедра, щедра –
надолго ли хватит?.."
Показательно то, что заканчивается Окуджава как бард ровно тогда, когда тема смерти оказывается исчерпанной. Он просто замирает у телевизора, тупо смотря сериалы. Его творчество напоминает кардиограмму спящего человека – ровные словесные колебания, ноль эмоций. Крайне редко он огрызается на происходящее, тут же убеждая себя не поддаваться, а говорить о приятном. Остатки вдохновения рационально направляются в необходимые адреса. Бард знает, что влиятельный сосед обязательно позовёт в гости, и загодя работает над песенкой в его честь.
Какая-то великая ирония судьбы заключена в том, что поэт уходит из жизни не с именем Пушкина или пронзительным откровением на последних листах, а с именем Чубайса и жадным описанием кайфа в Париже. Вот уж действительно — каждому своё.
Две песни
Две традиции существуют в авторской песне. Первая тянется от Анчарова к Высоцкому, а от него – к Башлачёву. Это живая нить, где рвутся к истине и вглядываются в трагедию, где покоряют вершины и ищут источник надежды, где смеются, но не насмехаются.
Вторая тянется от Окуджавы и Охрименко к Клячкину и Бачурину, а от них – к Гребенщикову и Фёдорову. Это мёртвая нить. Здесь поют о высоких чувствах и принципах, а потом всё предают и соединяются с конформизмом. Здесь глумятся и исторгают низкие истины, бравируя своей "природность", своей слабостью и своим пессимизмом. Здесь звучит нота абсолютного отчуждения. И здесь воочию отражена воля к смерти.
Эти песни ("от Михаила" и "от Булата и Алексея") рождены разной любовью. Одна направлена вовне, а другая – исключительно на себя.
И ничего этой, другой, песне не нужно, кроме комфорта сознания, который обеспечивают проклятия в адрес прошлого и модные мировоззренческие клише. Она лукава и до предела эгоистична. Она наполнена симулякрами – имитацией чувств, имитацией убеждений. Она дышит обманом.

Именно поэтому эта песня и оказалась бесчувственной к происходящему в девяностые – слепа и глуха ко всему, что могло извлечь из покоя. В период потрясений, когда от кумиров ждали настоящего слова, в этой песне зазвучала нота освобождения – от осознания прошлого и настоящего, от борьбы, веры и долга. И от любви к чему-либо, кроме себя. В ней зазвучала позорная нота умиротворения и аристократической отстранённости от проблемного бытия, шума кипящей улицы и захлестнувшего страну горя. Вдруг выяснилось, что авторская песня способна быть просто звуком, музыкальным и поэтическим упражнением, а все красивые принципы, которые она исповедует, – лишь фиговый листок, прикрывающий срам.
Именно поэтому эта песня так полюбилась "принципиальным скотам, скованным своими гневными вонючими страстями", как говорил Анчаров. То есть мёртвым душам. Она очень быстро сделалась жалкой: стала вымаливать ещё одно лето, ещё один солнечный день, глоток воздуха, встречу, взгляд, поцелуй. Её будущее оказалось удивительно предсказуемым. Она скатилась ровно туда, куда и должна была – в постмодернизм. И здесь приобрела формы уже демонстративно уродливые.
Автор выбрал четыре имени в Обществе мёртвых бардов – по числу всадников Апокалипсиса. Но имён этих "до и больше". Это живую нить тянут немногие, а мёртвую – легион. Уж очень эта традиция приятна и прибыльна. Уж очень здесь хорошо, узнаваемо, модно. Здесь тебе и барды-тяжеловесы из далёкого прошлого, и стебущийся молодняк. Здесь тебе и Борис Борисович с его вялым стёбом и медитациями, и Леонид Валентинович с его упрямой дегероизацией и сладкой, как мёд, апатией. Здесь тусовка, накрытый стол и приятные звуки. Здесь уютно и не напряжно. А что ещё нужно для счастья?
|